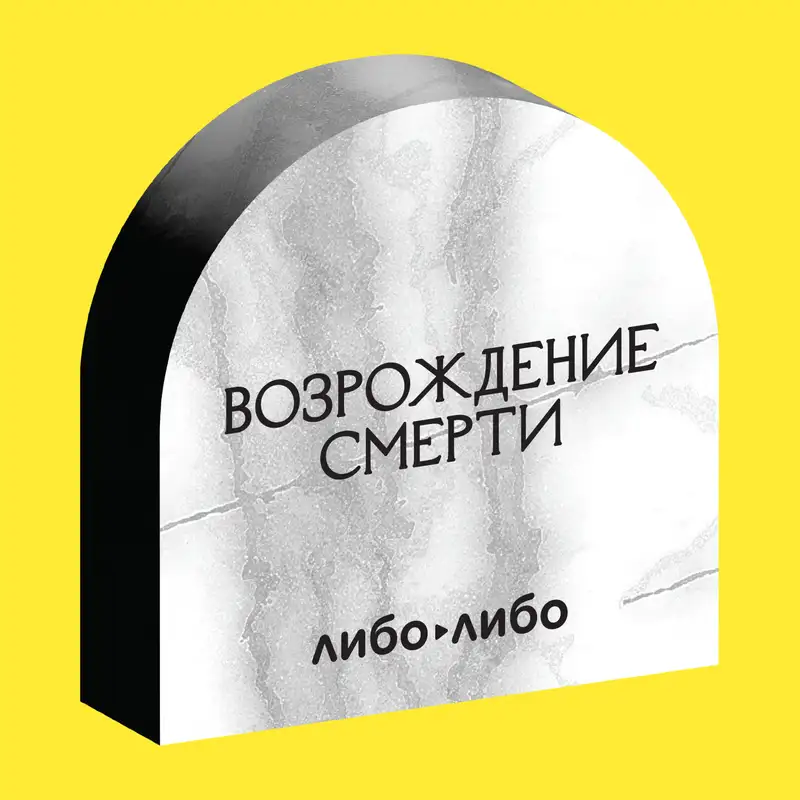«Вот и окончилось всё — расставаться пора». Как хоронили в моей семье
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.
Привет! Меня зовут Лена Чеснокова, сейчас я журналистка и редактор подкастов, а когда мне было почти шесть лет, у меня умер папа. Я до сих пор точно не знаю, что случилось. Ну, то есть я знаю, что его нашли в машине в красной восьмерке, которую он за пару лет до этого купил, назанимав денег у знакомых и родственников. У него остановилось сердце, а рядом с водительским креслом лежала бутылка паленой водки. Это были 90-е, Казань.
Наверное, многие смотрели «Слово пацана», так вот, в 90-е у нас в городе было еще много криминальных отголосков. Правда, пацаны с улиц тогда уже пошли в бизнес. Мой папа вообще-то был выпускником авиационного института, но вынужденно зарабатывал тем, что командовал стройками коттеджей для каких-то новых русских. Я помню, как дома обсуждали, что обстоятельства его смерти подозрительные. Вроде как ему тоже кто-то должен был какие-то деньги, и вообще он никогда не пил за рулем, но милиция дело так и не завела.
Папу похоронили в его родном городе Кирово-Чепецке в Кировской области. Каждое лето я ездила туда к бабушке и дедушке, и мы каждые выходные, а иногда даже чаще ходили на папину могилу. У папы черный гранитный памятник. На памятнике улыбающаяся фотография, на которой он очень похож на Бенедикта Камбербэтча. Ну, я это уже потом так решила.
И цитата: «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены». Это строчка из его любимой песни «Милая моя, солнышко лесное» Юрия Визбора. Сейчас я бы сказала, что это кринж, но тогда я такого слова не знала. Мне просто было непонятно, что делать, когда бабуля заливается слезами, глядя на могилу сына, показывает ему меня и говорит, мол, смотри, какая у тебя дочка выросла, отличница. Еще больше меня смущала эта дурацкая цитата. Я помню, что с какого-то возраста каждый раз, когда я смотрела на памятник, я думала: «Кто, блин, это вообще придумал?»
Ну, цитату предложила я. Он очень любил эту песню. И он очень любил, когда я ее пела.
Это моя мама Евгения Чеснокова. Я позвонила ей, когда решила делать этот подкаст.
Ну и мне показалось, что это как-то символично. Я, кстати, хотела две строчки написать. Я хотела написать: «Вот и закончилось все, расставаться пора» еще. Но потом выяснилось, что каждая буква стоит каких-то денег. И я решила, что ладно, ограничимся одной цитатой.
Когда мой папа умер, ему было 29 лет. Столько же было мне, когда я задумала делать подкаст о смерти почти три года назад. Вы слушаете вопрос времени подкаст студии Либо/Либо. Он о том, как большие изменения в политике, экономике, культуре, науке влияют на наше отношение к смерти, к процессу умирания, скорби, мертвому телу и погребению. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью.
Для меня это будет не только журналистская, но и очень личная работа. На протяжении всего подкаста я буду рассказывать, как планирую свою собственную похоронную вечеринку, пытаюсь завещать тело науки, решаю всякие юридические вопросы и всё в таком духе. И этот первый эпизод будет, пожалуй, самым личным. В нём я постараюсь разобраться, как хранить и поминать принято в моей семье, хочу ли я так же или как-то по-другому. А ещё расскажу о мировом тренде на возрождение смерти и поговорю с танатопсихологом.
Где-то к 29 годам я осознала, что у меня особые потребности, связанные с тем, что будет с моим телом, похоронами и моей памятью после смерти. И они, мягко говоря, отличаются от того, что принято в моей семье. Я обязательно расскажу об этих потребностях подробнее в конце выпуска, но пока я хочу ответить на вопрос, и не только вам, но и самой себе: откуда они взялись, эти особые потребности? И почему я вообще так много думаю о смерти в свои 32 года, что даже решила делать про это целый подкаст? И почему, меня особенно удивило, когда я уже начала брать интервью для выпусков, о смерти думают так много моих ровесников?
Ну, первое предположение: в мире вообще и конкретно в моей стране происходит чёрт-те что. И я сейчас даже не про войну, хотя про неё тоже. Удивительно, но по официальной статистике Росстата, прошлый 2023 год был рекордно низким по числу смертей за последние 30 лет. Умерли 1 760 000 россиян. И говорят, что одна из причин такого показателя это пандемия коронавируса. То есть в 20 и 21 году из-за него умерло много людей с хроническими заболеваниями, и если бы не ковид, они бы смогли прожить дольше.
Пандемия не только научила нас всех работать удаленно, но и дала очень жестокий урок. Несмотря на прогресс технологий и медицины, мы все очень уязвимы и хрупки. И хотя в моей семье от ковида никто не умер, разумеется, смерти были в близком окружении. Вместе с этим в нашу жизнь пришли новые реалии в виде дистанционных похорон по видеосвязи и коллапса системы здравоохранения, которая просто не была готова к новому вирусу. Лично мое отношение к смерти уходит корнями в семейную историю.
Как я уже говорила, первое и самое яркое столкновение со смертью и похоронами у меня связано с отцом. И когда он умер, мне ничего не сказали.
Слушай, ну я не знаю, что бы я сделала сейчас. Честно. Тогда понятно, что это был шок для всех абсолютный. И никто не понимал, на самом деле. Психологов в нашем окружении как-то особо не было.
Тогда нужно было решать срочно проблемы. Мы решили, что мы тебе пока ничего не говорим, но это, видимо, было какое-то такое коллективное решение.
Несколько недель я думала, что папа в больнице и что он скоро вернется. Но при этом вокруг происходило что-то странное. Все плакали, домой постоянно приходили друзья семьи и папины знакомые, а еще все как-то очень сочувственно на меня смотрели. Так продолжалось до тех пор, пока мама не решила посоветоваться со знакомой педиатром. Ей казалось, что у той больше опыта общения с детьми, и она наверняка знает, что делать.
И вот она тогда мне сказала, что, конечно, вы должны ей сказать. Она ведь понимает, что что-то происходит и что от неё что-то скрывают. Когда вы ей это скажете, то есть будет определённость. Поверьте, сказала она мне, дети гораздо легче это переносят.
А ты помнишь, как я отреагировала?
Ты сначала просто замолчала, ничего не говорила. Ты говорила во сне что-то, ты плакала и говорила что-то во сне. А потом, на следующее утро, ты как-то вот уже... Ну, как будто ты, действительно, приняла эту ситуацию. И как бы вот просто продолжила дальше жить. Мне, кстати, действительно показалось, что тебе после этого стало легче, потому что ты все время была в каком-то таком возбуждении, что папа должен приехать. У тебя же еще день рождения приближался, и что «папа на день рождения, наверное, приедет». Поэтому да, поскольку приближался, я понимала, что надо сделать это до дня рождения, чтобы не было иллюзий.
В итоге я выросла человеком, который считает, что смерть — очень важная часть жизни. И что ее не просто можно, но и нужно обсуждать с близкими людьми. И, кстати, не только с близкими. Я постоянно разговариваю о смерти на вечеринках, на первых свиданиях и в своих соцсетях. Наверное, это кого-то смущает, но вообще-то большинство людей реагируют с любопытством и тут же начинают рассказывать какие-то свои истории про смерть.
К этому я, кстати, еще вернусь. Короче, мне кажется, что чем меньше ты отмахиваешься от мыслей о смерти и больше размышляешь о каких-то практических аспектах: о завещании, погребении, сбережениях на похороны, отношении к реанимации и так далее, тем ты более зрелый и осознанный. А еще в разговорах о смерти мы начинаем думать про свои ценности и, как следствие, полнее проживаем жизнь. Ну, например, представьте, что вам осталось жить три недели. Что бы вы тогда сделали?
Как бы поменялись ваши планы и приоритеты? С другой стороны, может быть, всё это просто моя детская травма?
Травма — это когда человек не получает объяснения тому, что с ним произошло.
Это Ольга Иванова, экзистенциальный психотерапевт и танатопсихолог. Среди ее клиентов люди, у которых недавно умерли близкие или те, кто долго не может пережить горе, а еще те, кто очень сильно боится смерти.
Поэтому смерть может и не быть травмой, если рядом был адекватный взрослый, который, во-первых, объяснял все, что происходит, а во-вторых, который выдерживал все эмоции ребенка, был с ним рядом в этот момент и обнимал его. В норме психолог горючему ребенку не нужен, так же как и горючему взрослому. Обязательно нужно вовлекать ребенка в эти дела все, то есть брать его с собой на похороны, если он старше где-то трех с половиной четырех лет. Ребенку все объяснять, что происходит. Почему мы завешиваем зеркала, если такая практика присутствует, почему мы еще что-то делаем, почему мы булочки печем, почему к нам столько людей пришло. Врать ребенку ни в коем случае нельзя, потому что правда станет известна рано или поздно, мертвый человек не вернется.
Но доверие между родителем и ребенком будет утрачено. И представляете, да, когда ребенок не понимает, что происходит, а самый близкий человек ему врет.
Совет Ольги, если кто-то в семье умер, нужно обязательно объяснить ребенку все, что происходит, кажется мне очень классным и разумным. Но проблема в том, что смерть часто шокирует и оставляет в растерянности самих взрослых. Иногда они не просто не могут справиться со своими чувствами, но еще и оказываются не готовы действовать. Современная городская жизнь такова, если у тебя никогда никто не умирал, ты не очень представляешь, что вообще нужно делать, какие обряды и ритуалы обязательные, что готовить, что говорить на поминках и так далее. И даже если ты примерно представляешь порядок действий, то их смысл тебе не всегда очевиден.
В этом я убедилась, когда спросила у своей мамы про первые похороны в ее жизни. Оказалось, это случилось вскоре после моего рождения, когда умер мой дед, мамин папа.
Вот мы папу хоронили, мне было 25 лет. Первый раз я тогда выпила водки на поминках.
Дедушка был православным человеком, поэтому его отпивали в одной из казанских церквей.
А у тебя было ощущение, что ты первый раз на похоронах и ты себя как бы неловко чувствуешь, ты не понимаешь, что вообще ты должна делать. Можно плакать, не плакать, подходить, не подходить
Все подходили, целовали — я подходила, целовала. Ну это же папа мой. Tам в общем-то все довольно понятно: что там, ну стоишь там со свечкой, потом, ну, прощайтесь. Ну кто хочет подходит целует там, кто не хочет целовать, наверное, просто может руку кладут. Слушай, ну плакать, не плакать это же как-то... Конечно, я плакала. Ну а как? Все, ты понимаешь, что этого человека больше никогда не увидишь.
А землю надо бросать? Или это западная традиция?
Да, обычно люди проходят, бросают горсть земли.
А какой символический смысл?
Я, честно говоря, не знаю.
Потом я стала спрашивать у мамы про похороны моего папы. Как я уже говорила, они проходили не в Татарстане, а в Кировской области. Там ей тоже не все было понятно.
У них какая-то другая традиция. Я не знаю, это в целом Вятская или это именно Чепецкая, но у них это и с папой и с дедушкой было. У них традиция последний час перед похоронами выставлять гроб перед подъездом. То есть вот прямо на час. И вот ставится гроб, родственники садятся вдоль, и вот люди подходят, соседи подходят.
Я не очень понимаю, зачем час. Ладно, мы хоронили Олега, все-таки осень была, а вот деда мы хоронили вообще мороз был, февраль, и все сидят, мерзнут.
Мне кажется, дело тут в том, что Кирово-Чепецк это очень маленький городок. Буквально из песни Анжелики Варум, «где навеки провожают всем двором». Это такой отголосок традиционных деревенских похорон, когда прощаться с покойником приходила вся община, а не только родственники.
Все вот эти вот аспекты смерти похорон, бытовые аспекты, они несут под собой очень важный и очень ясный практический смысл. Это специальные практики для того, чтобы помочь переработать свое горе. Зачем ходить на кладбище, зачем убирать могилки, зачем нужны плакальщицы, зачем поминать. У человека, который жил в церковной стране, в религиозной, вопросов не было, зачем это все делать. В том числе и зачем занавешивать зеркала и так далее.
Вообще, до революции обряды перехода — так этнологи называют крестины, свадьбы и похороны, имея в виду, что у человека и его близких в процессе меняются социальные статусы — занимали в жизни людей гораздо более важное место, чем в СССР и в современной России. Это были события, в которых участвовала вся община, публичные праздники ну или трауры. Когда к власти пришли большевики, у которых была цель создать человека нового типа, они первым делом взялись за все эти обряды. Если коротко, то их цель была убрать из них все религиозные элементы и заменить их новыми. В 20-е годы даже стали справлять так называемые «красные похороны».
Это когда традиционное православное песнопение «Вечная память» меняли на всякие революционные гимны, на венках писали и лозунги про пролетариев, а у гроба читали торжественные речи о том, каким покойник был важным членом коллектива. Но, несмотря на все усилия большевиков, многие старые традиции похорон никуда не делись, люди от них не отказались. А вот понимание сути этих обрядов и ритуалов частично стерлось. Возвращаясь к тому, что сказала Ольга, после папиной смерти дома и правда завесили зеркала. Потом так делали, когда умерла моя бабушка по маминой линии, потом ее родная сестра и дедушка по папиной линии.
И никто дома действительно никогда не мог объяснить зачем это нужно. Когда я писала этот сценарий, я загуглила, и оказалось, что существует два типа объяснений: эзотерические и практические. Эзотерическое, например, такое: зеркало удваивает все вещи и чтобы смерть не пришла дважды в один и тот же дом, нужно его завесить. Есть еще одно: якобы душа покойника остается на земле в первые 40 дней после смерти, а зеркало это типа такой портал между нашим миром и миром потусторонним.
И засмотревшись на себя в зеркало, душа может навсегда застрять между миров и так и не упокоится. Я в такое не верю, поэтому мне ближе практическое объяснение. В первые дни после смерти домашние много плачут, соблюдают траур, надевают всё тёмное, не расчёсываются и так далее, и не каждый человек захочет смотреть на себя в зеркале в таком состоянии. Как бы то ни было, я бы не хотела, чтобы после моей смерти завешивали зеркала, потому что для меня это в целом бессмысленно. И еще я бы не хотела, чтобы мой гроб выносили стоять у подъезда. Честно говоря, я бы вообще не хотела гроб.
И единственный выход из этой ситуации, из вот этого вот ощущения бессмысленности этих всех ритуалов, — это создавать свои собственные практики памяти и задумываться самому, как я хочу, чтобы это было для меня.
Этим я и займусь. Пока я делаю этот подкаст, я попробую придумать и спланировать свои потенциальные похороны и поминки так, как мне хочется. Для этого я в числе прочего записалась на курс доулы смерти Вари Кучки, который называется «Только через мой труп». Доула смерти — это такая новая помогающая профессия, о которой обязательно будет эпизод в подкасте, как и про мой опыт на курсе. Но пока скажу, что во время занятий мы почти месяц с ещё десятком участников обсуждали, как обычно выглядят последние недели жизни, как составлять завещание, что делать со своими аккаунтами в соцсетях и что каждый из нас хочет оставить после себя.
Все это время я была окружена людьми, для которых мысли о смерти, как и для меня, это очень важная часть жизни. Несколько лет назад это бы показалось бы мне удивительным, потому что есть такой стереотип, мол, смерть, особенно в России, это табуированная тема, о которой боятся говорить. А тут целая группа несколько часов каждую субботу обсуждает плюсы и минусы кремации и ненависть к кутье. Кутья — это такое поминальное блюдо, обычно его готовят из пшена или риса с изюмом и медом. И теперь я понимаю, что вот это любопытство к смерти часть глобального тренда. Сейчас объясню.
В гуманитарных науках есть огромное исследовательское направление death studies. Это такая мультидисциплинарная штука: историки, антропологи, социологи, этнографы, лингвисты, философы и даже экологи исследуют, как люди воспринимают собственную смертность, как хоронят, горюют, вспоминают и изображают мертвых в книгах и кино. И отношение к смерти, как пишет исследователь, это такой дифференцирующий признак культур. Проще говоря, если хочешь побольше узнать о каком-то обществе, изучи, как его представители относятся к своим мертвецам и к памяти о них. Один из основополагающих трудов Death Studies в 1977 году издал историк-медиевист Филипп Арьес.
Книга называется «Человек перед лицом смерти». У современных исследователей много вопросов к методологии и выводам Арьеса, но с самым главным никто не спорит. Примерно до 18-19 века смерть в европейской культуре была естественной частью жизни, чем-то понятным и самим собой разумеющимся. Но на фоне происходили урбанизация и становление санитарии, и логика развития городов и новые санитарные нормы вытеснили кладбища на окраины или в изолированные районы. Ну а с 19 века начинается особенно бурное развитие медицины.
И это правда грандиозные перемены. Только представьте, что на протяжении почти всей истории человечества много тысячелетий средняя продолжительность жизни составляла около 30 лет, а сейчас это около 70 лет. Мы научились лечить большинство болезней, и, как следствие, люди чаще стали умирать в больницах. Хирург Атул Гаванде в книге «Все мы смертны» пишет, что еще в 1945 году в Америке абсолютное большинство людей уходили из жизни у себя дома. К 1980 году это число сократилось до 17%.
В общем, бурный научно-технический прогресс привел к тому, что люди стали очень утилитарно относиться к телу. И в такой парадигме смерть стали воспринимать как технический сбой, врачебную неудачу, какое-то досадное недоразумение. То есть по ходу истории смерть из чего-то естественного, понятного и прирученного становилась чем-то отчужденным, страшным и, как следствие, табуированным.
Ну а потом капитализм тоже взял это дело в свои руки, и сейчас идея бессмертия очень хорошо тоже продается, потому что у нас по телевизору показывают только молодых, здоровых, красивых. Нету в том же Голливуде некрасивых актеров которые играют некрасивых людей. У всех маникюр, у всех макияж, все стройные. Вот эта идея бессмертия она скользит везде, сквозит, когда рекламируются какие-то товары и услуги, которые якобы сделают вечно молодыми и живыми. То есть это не табу, это смерть, которую у нас отобрали.
А еще на эти общие тенденции в каждой стране наслаивались какие-то локальные исторические факторы. Вот, например, про Россию Ольга замечает интересную вещь.
Есть какие-то культуральные и исторические моменты, из-за которых мы о смерти не говорим. То, что у нас очень долго были смерти без горевания, когда была Великая Отечественная война, много людей погибло и эту смерть никто не оплакивал, не огоревывал, потому что было не до этого, нужно было восстанавливать страну. И все это переросло в то, что у нас нет культуры говорения о смерти, культуры горевания, ну, как таковой, да. Она у нас поломана.
В общем, считается, что такое отчуждение смерти продолжалось примерно до конца 20 века. Но в 90-е годы уже другой классик Death Studies социолог Тони Уолтер заметил на Западе новый тренд — возрождение смерти. Она снова стала предметом любопытства и рефлексии, о ней снова стали говорить. Например, в начале нулевых появились Death Cafe — это такие встречи за чаем или кофе, где незнакомцы просто несколько часов обсуждают смерть в самых разных ее аспектах. Этот формат придумал швейцарский антрополог Бернар Креттаз, а сегодня дезкафе проходит в том числе в России.
У возрождения смерти много причин. Уолтер, например, упоминает распад семейных связей и то, что общество в последние сто лет становилось все менее иерархическим и более неформальным. Проще говоря, современные люди реже ориентируются на предков, авторитеты, меньше во всём походить на группу, к которой они принадлежат, и при этом активно пытаются понять себя и свои потребности. А ещё Уолтер пишет, что важнейшая потребность людей в современном обществе потребления — это потребность к самовыражению. Поэтому похороны, поминки, установка памятника — это всё теперь не просто часть ритуала перехода из мира живых в мир мёртвых, как это было тысячи лет до нас. Но и еще один способ заявить о себе, как-то себя спозиционировать.
Мы живем в таком интересном очень времени, когда люди начали возвращать смерть себе. Когда люди вдруг поняли, что «опа, а ведь моя смерть — она моя. И я хочу, например, чтобы меня кремировали, а не похоронили. И я могу этого как-то добиваться, я могу об этом разговаривать, свои пожелания, как-то выражать своим близким».
До России этот западный тренд доходит только сейчас. Но очень медленно и затрагивает далеко не всех. Тем не менее для этого подкаста я много разговаривала с самыми разными русскоязычными людьми, разных возрастов и профессий. И моё главное открытие в том, что люди довольно легко соглашаются на разговоры о смерти, и многие действительно думают о том, как хотят провести последние месяцы жизни или что хотят оставить после себя. Причем, чем старше человек, тем эти мысли более детальные. И тут я снова вернусь к своей семье.
Помимо мамы, я решила позвонить бабуле по папиной линии. Той самой, которая в детстве постоянно водила меня на его могилу. Прежде, чем вы услышите ее голос, забавная история. Пару лет назад бабушка позвонила мне и сказала: «Слушай, у меня отложены деньги: сто тысяч рублей на твою свадьбу и сто тысяч рублей на мои похороны, куда тебе лучше прислать свадебные?»
В общем, я решила не только расспросить бабушку о поездках на папину могилу, но и узнать, о каких похоронах она сама мечтает и как бы ей хотелось, чтобы я эти сто тысяч рублей потратила. Оказалось, что моя бабушка уже давно собирает узелок.
...А бабушка Наташа умерла в 81 году. Моя бабушка Наталья Ивановна Гончарова. У нее с сердцем плохо было. И она с 50 лет готовилась к смерти. Ну раньше всё на смерть — узелок.
Ну всё: чулки, трусы, рубашка. Ну костюм. Раньше юбка с кофтой — это такой костюм. И платочек. И этого вот у нее все... Ей подарят чего-то, чего ей больше нравится. Она старое начинает носить, чтобы не зажелтело рубашкой и белье. А это клала.
А я такая была... Ну в сундуке все проверяла — лежит ли в ней этот узел. Я его найду и реву, реву, реву, реву. А она сразу придет, смотрит я заревленная. И говорит: «Ты что, опять шарила в сундуке?»
И вот она с 50 лет до 91 года у нее все время был узелок на смерть приготовлен. И я все это самое сейчас Трофимовне говорю, что нам пора...
Трофимовна это бабушкина лучшая подруга.
Сейчас Юлька мне платье купила. Я говорю, видишь, как бы положено, с длинным рукавом. И говорю: «Вот можно это платье и шарфик, вот это в тон».
Ну тетя Юля тебе платье купила, чтобы ты сейчас ходила?
Ну да... А я ей говорю: «Самое дело оставить и не носить это платье». Но она на меня заругалась и сказала, что я ненормальная.
А помимо костюма что надо?
Белье, колготки или чулки, туфли и шарфик или платочек. У нас было такое на работе. Там женщина. Ну она на работу ходила чики-брики такая вся из себя. А поехали картошку копать.
Машина перевернулась, и она умерла. И потом пришли бабы с работы и стали у ней в шифоньере искать белье, чтобы это... в чем? И по всей ЦЗЛ разнеслось «надо же, что ни одних целых трусов нет». Так уж лучше, это самое, приготовить это.
А еще бабушка очень переживает из-за того, где ей быть похороненной. Последние годы она вместе с дочерью, с моей тетей Юлей, живет в Казани. При этом все могилы ее близких отца и матери, сына Олега, то есть моего папы, и мужа Толи, то есть моего дедушки, в Кирово-Чепецке.
Но я-то думаю, что меня бы похоронили между Олегом и Толей. Сказали, что можно. Столько лет прошло, да как бы на папин гроб меня положили. Если Юлька здесь останется и ко мне даже... В общем, плохая моя доля, что я даже не знаю, где бы я хотела. Здесь вот всё незнакомое и всё ещё куда-то увезут.
И неизвестно, на каком кладбище и куда вообще. Страшно даже подумать, что вообще неизвестно, где лежать и все.
Я крещеная, я из православной семьи, но при этом я скорее агностик. Я не хожу в церковь, не ношу крестик и у меня нет тяги регулярно ходить на могилу родственников. Я вообще считаю, вспоминать умершего человека и вести с ним какие-то внутренние диалоги можно в любом месте, и необязательно для этого находиться у его могилы. Мне стало интересно, насколько мое отношение к кладбищам типично. Так вот, если верить запросу ФОМ, фонда Общественное мнение за 2014 год, 67% россиян ходят на могилы предков несколько раз в год.
50% делают это, чтобы отдать дань уважения. 28% чтобы убраться на могиле и 20% чтобы как раз пообщаться с умершими. В родительский день, то есть на девятый день после Пасхи, в новостях обычно появляется сообщение, что на кладбищах по всей стране дикие пробки. А где-то руководство городов и регионов даже объявляет короткие рабочие дни, чтобы люди успели съездить на могилы. Ну и конечно, для моей семьи посещение могилы это тоже что-то суперважное.
Но получается, я каждый раз, когда приезжала летом в Чепецк, мы всегда ехали на кладбище. Там бывало, что мы каждые выходные, например, ездили, бывало даже по нескольку раз что-то прополоть, полить. Это твоя инициатива или это тоже положено почаще ходить? Почему так было?
Нет, это не положено, это просто я не могла смириться. Это я просто бывала и два раза в неделю. Поеду, допустим, из сада цветы завезу. Ну и зимой я все время ходила. Ставили мы Олежке всегда елку, наряжали ее.
Но могилы нельзя трогать, снег с могил нельзя убирать, а только около могил можно.
Почему нельзя?
Не надо беспокоить. Некоторые говорят, что не надо зимой их беспокоить и ездить на кладбище. Мне легче, когда я съезжу, пообщаюсь и мне легче. Или когда в храм схожу, панихиды закажу, сорокоусты. Ну конечно я бы хотела все равно я бы очень хотела, чтобы ты заходила в храм и ставила свечку за упокой дедушек, бабушек.
Сейчас уже у тебя. А будет еще больше. Чтобы перекрестилась и поставила, и чтобы Бог простил все наши вольные и невольные прегрешения.
А вот что про это говорит моя мама.
Меня расстраивает, например, что у тебя нет... Условно говоря, что все-таки за могилой надо следить. У тебя нет этого, что... ты не готова следить за могилами. Я думаю: «Ну вот, нас там не будет. И что? Все разрушится, все зарастет. Никто не придет». Ну меня это расстраивает.
Сейчас есть много сервисов, как Uber, только для уборки кладбищ. Ты платишь человеку, он убирается, снимает тебе все это. Можно даже установить камеру на кладбище и всегда подключаться к ней в любой момент, представляешь?
Прекрасная история. Барон Ротшильд из своего замка ведет наблюдение за могилой своих предков. Ну как бы нет, ну красиво жить не запретишь. Я ничего не говорю.
Нет, ну это не такие огромные деньги.
Ну можно, ну нет, ну мне бы хотелось, ну хотя бы так. Мне бы хотелось, чтобы там, когда я умру, ты как-то все-таки, ну в каком-то более-менее приличном виде мою могилу поддерживала. Ну и могилы моих родителей. Понятно, что я не могу тебя заставить, если тебе это не нравится.
Я тебя услышала.
В начале эпизода я обещала подробнее рассказать о своих особых потребностях в умирании. Начну с того, какую смерть я считаю хорошей. Раньше я всегда думала, что лучшая смерть — быстрая и внезапная. Кирпич на голову, шальная пуля, не знаю, резкий сердечный приступ, ну чтоб не мучиться короче. Но когда я писала сценарий для подкаста «Почему мы еще живы» про паллиативную медицину, я узнала, как современные врачи помогают людям пережить боль, одышку и почти все другие неприятные симптомы конца жизни.
И я подумала, что, может быть, хоспис не так уж плохо. В общем, кажется, я перестала бояться медленного запланированного умирания. Что касается тела, я бы хотела либо стать донором органов, либо завещать себя науке. Вместо поминок я хочу вечеринку с плейлистом из своей любимой дурацкой музыки. Мне хочется, чтобы люди вспоминали что-то хорошее, что связано у них со мной, и по возможности не плакали.
Если я завещаю тело науки, хоронить или сжигать будет уже нечего. В идеале мне бы хотелось, чтобы у меня совсем не было ни могилы, ни урны в колумбарии, но этот аспект я пока не до конца продумала. Всеми этими своими размышлениями я решила поделиться с близкими. Ну видишь, вот надо приготовить какой-то мне документ, чтобы если что забрали ученые.
А потом остатки сожгли, да?
Да, потом остатки сожгли.
Ой, не знаю. Что-то я не знаю. Тогда я долго-долго жить буду, и пусть не при моей жизни. Мне это как-то не очень нравится. Детей своих спросишь, разрешат они такое?
Ну так каждый же сам должен решать.
Так оно, конечно сейчас. Ну молодежь... Ну молодежь, госпади.
Ну, кстати, то, о чем ты говоришь, наверное, у меня вызывает внутренние противоречия, чтобы там веселились и играла музыка. Ну, я не думаю, что мне захочется как бы вот. Ну, не знаю. Ну, видишь, я олдскульна и традиционна. Ты же понимаешь, что все-таки похороны это сколько бы мы там, кто верит, например, сколько не верить в то, что душа остается жить после смерти, и что умирает только тело, надо же как бы даже при таком подходе надо отдавать себе отчет, что ты вообще вот все, ты этого человека больше не увидишь. Ну что, все, все. То есть это человек уходит и уходит, ну, как бы огромный мир, на самом деле, с ним.
И я часто думаю, что почему же я у мамы своей вот это вот? А как же она ведь рассказывала? Ой, а я забыла, и уже не переспросишь.
И несмотря на то, что мои представления о хороших похоронах и уходе за могилами совсем не такие, как у моих близких, после их смерти я постараюсь похоронить их и вспоминать о них так, как бы они того хотели.
Ну, если я умру, ты ко мне будешь хоть на могилку-то приходить?
Мам, убер. Убер.
И видеокамера. Понятно.
Ну чего уж ты? Буду!
Понятно.
Это был подкаст «Вопрос времени». Мы сделали его в студии Либо/Либо с редакторкой Жанной Алифимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежжисерами Юрием Шустицким и Алексеем Воробьевым. Меня зовут Лена Чеснокова.
Дальше в нем будут эпизоды про доул смерти, состояние российской похоронной индустрии, паллиативную помощь и многое другое. Ну а в следующем выпуске я буду говорить о смерти со своими ровесниками. Я разберусь, что такое хорошая смерть, на какие вопросы о смерти нужно ответить себе при жизни и как 30-летние относятся к поминочным вечеринкам. Пожалуйста, ставьте нам оценки во всех подкаст-приложениях и пишите отзывы в инстаграме и телеграме студии.
Creators and Guests